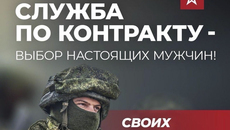А что там, в тумане?

Оба фильма посвящены, в общем-то, одному и тому же предмету — российской провинции, огромному миру деревень, крошечных городков, полустанков — миру, который коммерческому российскому кино почти не виден. Взгляд вгиковской молодежи, откалиброванный по небоскребам Москва-Сити, скользит мимо провинции. А может быть, не скользит, а сознательно УСКОЛЬЗАЕТ — из страха перед этим огромным туманным пространством, где неизвестно что таится.
Фильм «Счастье мое» как раз такое пространство и изображает. До обращения к игровому кино Сергей Лозница много и упоенно снимал российскую периферию как документалист. Снимал на огромном географическом треугольнике между Москвой, Петербургом, Смоленском. Пусть не обольстит вас упоминание в этой геометрии обеих наших столиц. Потому что их неоновый свет сие пространство почти не озаряет. Степень депрессии и запустения, царящего в малых областях Центральной России, для новосибирцев или кемеровчан не представима. Сибиряки сетуют на бытовую неряшливость местной периферии, на бегство бывших земляков за Урал. Досадно, но не смертельно. Потому как периферия «центровая», нечерноземная, обуяна более устрашающим процессом — децивилизацией. Расчеловечиванием. Обитатели никуда не убегают. Они просто перестают быть собой.
Американцы на коллективных метаморфозах провинциальных обывателей замесили целую разновидность хоррора. Мол, ехал главный герой по шоссе, захотел срезать, свернул на проклятую дорогу, а там зомби-упыри-маньяки. И все с местной пропиской. Нынешние американцы — питомцы уютной, комнатной цивилизации. Перед просторами своей огромной и, в общем-то, еще не до конца изученной страны они испытывают здоровую детскую робость — а что там, в тумане?
Герой картины Сергея Лозницы шофер Георгий тоже совершает сюжетообразующую ошибку — «поворот не туда». Но никаких завываний синтезатора, никакого нагнетания, все буднично: в отечественной версии судьба, позевывая, вещает устами малолетней дорожной проститутки: «Ну, там дорога проклятая, бабка чо-то говорила… ну, я не знаю». Поехал, свернул, завяз — далее по канону. Вышли из сумрака монстры. Жиденькие такие, локальные — трое бомжеватых хануриков в кепариках. Позвали «водилу» к костру с картошечкой. Тюкнули полешком по затылку. Обшарили фургон. Ничего, кроме мешков с мукой, не обнаружили, сочли этот груз скучным и убрели обратно во тьму, разочарованно матюкаясь. Судьбоносное зло в картине Лозницы выглядит именно так — оно не знает, что оно зло. И тем более не задумывается о своей судьбоносности. Оно вообще, похоже, не задумывается. Мол, чо-то как-то, ну это… как его… трубы горели… ну вот… извини, мужик… а я чо… я ничо…
Тем не менее кургузое зло исправно исполнило свою сюжетную миссию — оставило героя в сумеречной зоне до самой зимы. Населена эта зона отнюдь не вурдалаками — обычными пейзанами в китайских куртках и валенках с калошами. Людьми не злыми и не страшными. Ничто не стоит у них за спиной в виде рогатой тени. Ходят ровно, говорят членораздельно. Ну, с матерками, правда. Ну, так уж умеют, цицеронов-то не читали. Обычные люди, в общем. Базарчики, шансон из динамиков, стеклопакеты в окнах счастливцев, развалившиеся избы несчастливцев. Развалившихся изб весомо больше, чем «опакеченных», они доминируют в пейзаже. Но доминируют естественно — ни одному голливудскому декоратору не сплести столь филигранное кружево разрухи. Голливудским профессиональным зрителям в «Счастье» почудился некий «Русский Сайлент-Хилл». Янки-интеллектуалы тоже боятся сумрачных проселков своей одноэтажной Америки, селят в ее укромных уголках Абсолютное Зло. Но сходство это сугубо формально. Потому как никакого рогатого Великого Зла в пустоши фильма Лозницы не живет. В этих селах и деревеньках обитает субстанция более загадочная и туманная — НеДОБРО. Усталое Равнодушие. Большое Ничто. Великий Пофиг. У этой субстанции множество имен, и ни одно не будет точным. Жители потерянного края не творят зла преднамеренно — они просто воплощают свои локальные желания. Воплощают под простым девизом «Ну, мне же надо». Не очень задумываясь, кого из ближних, встречных и поперечных придется отдать в жертву этому всепоглощающему Надо. Вот в этом-то сумрачном мире и просыпается шофер Георгий с отшибленным полешком умом. На дворе уже зима, грузовичок его продан оборотистой матюгастой селянкой, а сам он у сей селянки служит «типа мужиком» — безотказный, немой и ко всему равнодушный. В жизни других поселян он так и участвует — в виде этакого зомби а ля рюс — то менты равнодушно арестуют, то местные бандюганы отметелят, душу отводя, то дедок-бобыль приютит. А потом тот дедок застрелится из трофейного «вальтера» — еще один пленник этой пустоши, отчаявшийся найти другой выход. Экс-шофер слепо подберет пистолет — без слов и содроганий, как невнятную железку. Но железка, как велел Чехов, не смолчит. Из нее в финале зомби-шофер перестреляет сначала злодеев-ментов, а потом и людей, которых он минутой раньше от этих ментов нечаянно спас. И уйдет в метельную темноту, в то самое Ничто, которое так буднично его заморочило, прокралось внутрь, выело и поглотило.
В фильме «Воробей» Юрия Шиллера просторы периферийной России тоже выступают главной декорацией, но они окутаны не сумраком, а янтарным светом с высокого неба. Мир этот нов, огромен и, в общем-то, дружелюбен — таким он видится только в детстве. Таким его видит восьмилетний Митя Воробьев, главный герой картины. Живет он в дремучей глубинке, где слову «папа» дети предпочитают старорежимное «тятя», куда большой мир долетает трелями радио. Взрослые этой оторванностью тяготятся, Митя — вовсе нет. Он не в Васильевке живет, он на свете живет.
«Воробей», на мой взгляд, мог бы стать чудесной созерцательной картиной о детстве, подобной классическому «Сереже», если бы не смешение жанров, ритмов и приемов. С одной стороны, Юрий Шиллер хотел снять именно художественную картину. И потому пригласил актеров московских театров, прописал духоискательские и оттого излишне литературные диалоги. С другой — очень хотел остаться на знакомом и любимом поле документального кино. И для того применил репортерскую технику съемки, звукозапись «набело» и импровизацию в диалогах второстепенных. И случилось то, что неизбежно случается при попытке быть в двух местах сразу: два стиля, два жанра принялись рвать фильм напополам. Документальное и художественное — разбиваться друг о друга, как пасхальные яйца. Созерцательная неспешность документального кадра принялась хватать за ноги сюжет, ну и так далее…
Впрочем, при названных минусах «Воробья» картина получилась довольно обаятельной. И уравновешивающей сумрачную босховскую эстетику Сергея Лозницы. Лозница берет графической, эстетской прорисовкой, Шиллер — размашистой лазорево-золотистой акварелью. И вместе они случайно, внепланово образовали что-то вроде диптиха. Диптих о тенях и зарницах русского простора.
 EUR 91.0281
EUR 91.0281